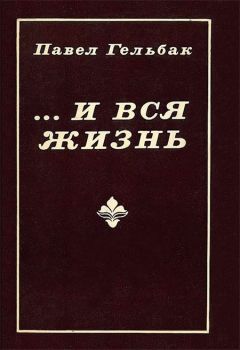Иван Корнилов - В бесконечном ожидании [Повести. Рассказы]
И снова он колесил по земле — теперь уже в поисках самых головоломных работ. В половодье, когда вода крутит черные страшные воронки, а льдины прут сплошняком, на утлом ялике перевозил Степан через быстрину рабочих; на высоте, где у других кружится голова, без предохранительного пояса монтировал каркасы хлебных элеваторов; из опасных забоев старой выработанной шахты, куда не каждый опытный горняк отваживался, доставал Степан сланец. И хоть бы одна царапина — ни черта не приключилось! Любая их этих работ, пока была вновинку, отвлекала Степана от невеселых житейских дум, но как только работа становилась привычной, обыденной, такою же становилась и жизнь, а говоря иначе — наступали ночи без сна. Бессонными же ночами возвращалась прозрачная, помнившая все далекие подробности память.
Лишь однажды Степан случайно набрел на хорошую работу — по две смены кряду грузил на баржи арбузы. Работка до пару между лопаток, до чугунной усталости: под конец второй смены плавал в глазах красный туман, а сон — на какой бок лег, на том и проснулся — сваливал здесь же, на причале. Хороша была работка, хорошее стояло времечко, да арбузный сезон длится полтора только месяца…
Так же, как с любой из многих неродных работ — без зацепки в душе, мимолетно — сходился и запросто расставался Степан с женщинами. Может, где-то по крутым и отлогим волжским берегам и растут теперь дети с угольно-черными, в Степана, глазами, да только вряд ли: любая из женщин бессознательно определяла: Степан никогда не будет принадлежать ей до конца и, коротая с ним мимоходную жизнь, осторожничала… Лишь одна, Марией звали, красивая и еще молодая, решилась: честь по чести прописала его в своей комнатенке, однако при первом же удобном случае улизнула к другому, а Степан так и остался при ее хоромах. Да и тем доволен.
Раз в октябре, когда без передыху целую неделю царапал душу мелкий дождь, когда ночи установились глухими и бесконечными, Степан, на беду свою, не был загружен отнимающей все силы работой. Сон пропал, память все настойчивее звала в прошлое, вновь и вновь выдвигала перед глазами жирный — не топтанный скотиной, не тронутый косцами — выгон, и серое пепелище — искалеченное свое село. В те тягостные дождливые ночи пришла на выручку выпивка…
Спервоначалу пил, лишь бы затуманить чересчур прозрачную свою память, забыться и повеселеть хотя бы на малое время. Постепенно дожил до запоя. Дурная неотвязная болезнь… Весь вольный свет теряет свой смысл и значение, в жизни не становится ни целей, ни радостей, кроме одной — заглушить нутряной жар, притупить боль в висках и в затылке… Это тянется одиннадцать бесконечных дней и ночей, и одиннадцать дней и ночей во рту у Степана не бывает ни крошки съестного, он зарастает щетиной и худеет так, что еле узнают знакомые. Самый невыносимый — седьмой день; тогда все кажется то черным, то красным, будто бы стегают тебя по глазам то черной, то красной рубахою. С этого дня сердце что-то зажимает и держит-держит, не дает как надо вздохнуть, мешает лежать на левом боку. На седьмом дню Степан ковыляет к Егоровне и, у ног ее валяясь, памятью детей своих просит свезти его в вытрезвитель, в милицию или хоть к черту на рога. Сердечна, безотказна Егоровна: через нее и вытрезвители знает Степан, и в психиатрическую клинику, где больные чересчур суетливы, а их родственники разговаривают шепотом, водила она Степана, да все без толку, не помогало.
После болезни всегда приходит прожорливая неделя, она-то и возвращает потерянный вес и силы.
С тех пор как приласкалась эта болезнь, Степану не надо уже увольняться с работы — увольняют… Подрабатывал на жизнь погрузкой на пристанях и станциях, случайной починкой оконных рам, дверей и печек в частных деревянных избах. Приходилось выносить на базар клетки для певчих птиц, плетенные из лыка лукошки, да это так, плевый заработок. После долгих унизительных просьб приняли вот на эту работу — да и то, видно, потому только решилась бывшая заведующая Нина Васильевна, что сама переезжала с этой работы… Новая заведующая, Вера Яковлевна, — женщина тонкая, интеллигентная; деликатность пока что не позволяет ей пойти на крайние меры, она только не здоровается со Степаном несколько дней после его отлучки. Если б знать, что так оно поведется и дальше, тогда бы… А вдруг да передумает заведующая однажды, а вдруг да решится на крайние меры?..
Вот какая нынче у Степана жизнь. Как великая подачка и радость ее — навестит разок в неделю Егоровна, переночует с ним ночку, пригреет большим своим телом и спозаранок — домой. Ночевать ночует, а совсем чтоб — не решается. То ли опасается непутевой его жизни, то ли стыдится замужних своих дочерей…
Лежа на своих досках, смотрит Степан в высоту крыши. В его отсутствие, скорей всего, чужие, не детсадовские дети, а может, и ветер отколол половину шиферного листа, и в случайной этой прорези виден черный проем городского неба со щепоткою мелких неярких звезд. Степан глядит на звезды и думает разбросанно, о многом сразу. Вот кончится август, и придут гадкие осенние ночи. Что-то принесут они, что-то будет?.. Подумалось, сколько теперь времени — час или уже три? Если три, то в его родном селе, далеко-далеко отсюда, кочета теперь вовсю заливают… Может, есть резон вернуться в свою Белоруссию? Один молодой врач высказал предположение, что переезд на родину может избавить Степана от его болезни. Правду сказал или для того только, чтоб отделаться от одного бедолаги? Вдруг вспомнилось, что на новый этот день много чего наобещал своим скворчатам. Наобещать-то наобещал, а успеется ли сделать?.. Пожалуй, все-таки хорошо сделал тогда, что отпустил на волю плюгавого немчишку: пусть живет для своих тонкошеих ребят. Только уцелел ли он в той кромешной войне?
Потом Степан заметил, что звезды в шиферной прорези пропали. Сначала он подумал, что это легкая облачная наволочь их заслонила, но, поразмыслив, он понял, что звезды сами по своей причине ушли на восток или еще в какую-нибудь другую сторону: вся природа не стоит ведь на месте, а вертится. Когда-нибудь, возможно, и его, Степанова, жизнь вот так же повернется иным, более счастливым своим углом? Повернется или не повернется?
Тут Степан лег на левый бок, довольный тем уже, что после болезни сердце его отпустило, не держит и спать стало можно на обоих боках.
Знать бы заранее
Вот уже три лета кряду начинаются у меня одинаково: свалив с плеч сессию, я даю Сереге телеграмму и в тот же вечер отправляюсь на вокзал. А наутро мой закадычный друг поджидает меня на их крошечной станции.
И в этот раз все повторилось. Поезд еще гасил скорость бега, а я, высунувшись в окошко вагона, уже видел нашего Удалого: потряхивая надетой на голову торбой, он стоял у станционной коновязи и неторопливо жевал зерно. А сам Серега ждал меня на затасканном свежей грязью перроне. Он привез с полведра вареных раков, и мы — с долгожданной-то встречи — за хромоногим столиком в станционном буфете закатили пир ай-яй-яй! На пиво тянулись и люди почтенные, и молодежь. Все устраивались поближе к нашему столу, косились на раков. Серега перехватывал эти взгляды и с размахом нескупого богатея раздаривал свой капитал налево-направо.
Потом мы ехали в хутор. Только что окончился большой долгий дождь, дорога была вязка, местами совсем размыта, и Удалой, то и дело поскальзываясь, стукал копытами по оглоблям.
Чем ближе подъезжали мы к Орловке, тем сильнее волновались, и у каждого на то были причины свои. Серегу радовали его поля. «Ты смотри: урожай будет — не свозить!» — показывал он на ячменный массив. В другом месте он останавливал коня и просил меня замереть, прислушаться. «Слышишь, как выдирается она из земли? — это уже о пшенице. — Теперь, после такого дождя, она знаешь как воспрянет, теперь она попрет шубой!»
А мне хотелось поскорее увидеть знакомых людей, а еще больше — послушать их. У здешних хуторян, в особенности у пожилых, очень неожиданный говор. Тут порой услышишь такое редкое словцо, что сердце забьется учащенней. Из-за этих-то слов-самоцветов я и провожу в Орловке уже третьи свои каникулы. Когда наш филфак, сколотившись в экспедиции и отряды, отправляется по местам старины или на стройки, мне всякий раз удается отбиться от всех и уехать сюда, в этот хутор. Работаю водовозом, заправщиком или прицепщиком, на утренние летучки прихожу пораньше, вечера люблю проводить у бригадной конторки, где всегда столько разговоров, и к концу лета мои записные книжки полны.
— Добрались? — обрадовалась нам Вера Матвеевна, мать Сереги. Обняла меня и, заглянув в самые глаза, сказала сердечно: — Ничуть не изменился: не поправился, не похудел. В баню, ребятки, первым делом в баню! А я тем часом вареничков настряпаю.
Мимо нашей повозки неторопливо прошагала девушка, в которой с трудом узнал я Клавдю Вьюркову, нашу соседку, так повзрослела она за год. Платье на ней было такое яркое, каких и в городе-то увидишь нечасто.